8 (495) 434−46−01
8 (800) 511−28−37
ОТДЕЛ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
На премии «Инновация» вне конкурса ежегодно награждают художников за творческий вклад в развитие современного искусства. В этом году из рук министра культуры премию получил Эрик Булатов. Мы поговорили с художником о том, что делать молодому человеку, если он хочет внести свой вклад в искусство, где сегодня искать эпицентр современной культуры и какие проблемы актуального искусства в России нужно решать в первую очередь.

– Последние десять лет вы живете в Париже. Вы следите за тем, что происходит в русском современном искусстве?
– К сожалению, не очень хорошо слежу. Имена, как правило, мне неизвестны. Но крупные события, такие как премия Кандинского, конечно, я вижу. Или скандальные истории вроде Pussy Riot. Я думаю, сейчас это очень болезненный вопрос – граница между человеческим поступком и художественной акцией. Где она проходит? В России эти понятия путают. Именно для искусства это место мне представляется сейчас наиболее актуальным – где граница искусства, где граница дозволенного для художника.
– У вас какой взгляд на этот вопрос?
– Жесткий. Я совершенно убежден, что эта граница непереходима и ни в коем случае нельзя придавать своим поступкам характер артистического жеста – на это художник не имеет права, и это просто безнравственно. Слово «безнравственно», может быть, несовременное, но, тем не менее, оно выражает проблему наиболее точно. Ведь в результате получается, что художник нарушает эту границу специально для того, чтобы вызывать скандал. А когда возникают реальные последствия скандала, то начинаются крики о помощи. И приходится помогать, потому что вмешивается государство, и надо уже спасать человека от тюрьмы. Получается дурацкая вещь: ты невольно должен выступать в защиту человека, которому совершенно не сочувствуешь. А деваться некуда. Художник не должен провоцировать такие вещи, не имеет права.
– А как смотрят на эту ситуацию ваши западные коллеги-художники?
– У нас принято считать, что настоящий
художник должен быть голодным и угнетенным. Когда за ваши картины
платят миллионы евро, для вас
это
– Что вы! Мне легче жить, это ясно.
– А как для художника, для осознания себя?
– Я совершенно убежден, что для осознания себя это абсолютно ничего не значит. И рыночная цена ни в коей мере не определяет качество, ни в коей мере!
– Зритель для вас является критерием?
– Конечно. Когда работа
– То есть, для восприятия ваших работ никакого особенного багажа знаний не нужно?
– Это сложный

– То есть, зритель и художник всегда общаются один на один?
– Да, потому что картина адресуется не ко всем, а лично к каждому. Это мое убеждение.
– Скажите, вы видите разницу между нашим российским зрителем и западным?
– Отличие русского искусства и возникает
– Можно, исходя из этого, сказать, что ваше искусство – с чисто русским подходом?
– Это абсолютно русское искусство. Я понимаю себя именно как русского художника.
– Наоборот, я считаю, что именно это и нужно для того, чтобы быть частью цивилизованного европейского и мирового культурного делания. Потому что нет обобщенного европейского искусства: есть французское, немецкое, американское… И именно как русское искусство мы можем в него войти. Не получится быть, как все: как кто?
– Какое место современное русское искусство занимает в западном искусстве, в мировом? Оно там вообще есть, учитывается?
– Никак не учитывается, и никак его нет.
Существует абсолютная уверенность, что в России изобразительного искусства
нет. Есть литература, прекрасная музыка, даже, может быть, театр, балет. Есть
несколько художников, которых признают, но это признание лично Шагала,
к примеру. Скажем, меня не обидели, ко мне хорошо относятся.
Но это успех конкретного художника, а понятия русского художника
до сих пор не существует. И опять мы сами виноваты, потому
что не понимаем, чем наше искусство отличается, в чем его
особенность, основа? И что же другие могут сказать, если мы сами
о себе ничего не знаем? На западе принято считать, что авангард
— это единственный фрагмент в истории русского искусства, где
действительно
– Что бы вы посоветовали молодым
художникам, которые очень хотят попасть на мировую арену,
сделать
– Я думаю, это субъективно. Единственное, что могу
сказать — если молодой художник хочет ехать туда, где сейчас самый центр
событий, – не надо ехать во Францию. Она сегодня не играет такой
роли. Надо
– Совет применим очень во многих областях.
– Но для этого надо иметь в руках ремесло. Вообще, художник должен уметь рисовать, это мое убеждение. Даже если потом это умение не пригодится, оно все равно должно быть. Потому что иначе возникнет комплекс собственной неполноценности. И ощущение беспомощности, когда у человека есть, что сказать, но он не знает, как. У него нет в руках ничего, чтобы это выразить.
– Я правильно поняла,
– Да, может и так быть. Во всяком случае, Сезанн считал, что даже без этого художник может обойтись. Сезанн был, наверное, прав.
– Вы сказали, что совмещать работу над картинами с заработком в другой сфере непросто. Долгое время вы работали в детском издательстве, сложно было переключаться с одних задач на другие?
– Должен сказать, что действительно трудно. Но мне помогало то, что мы работали вместе с Олегом Васильевым. Один я, наверное, не смог бы. Мы создали такого художника, который не был ни Васильевым, ни Булатовым. Это был отдельный автор. У нас полгода было на книжки, полгода на живопись: делать все одновременно, как мог, например, Кабаков, у нас не получалось. И приходилось жестко разграничивать время: зима – книжки, весна и лето – живопись. Переключаться было, конечно, очень трудно.
– С чего начинается ваша работа над картиной?
– Она начинается с того, что возникает ясный образ внутри головы и потребность его материализовать. И эта реализация бывает, как правило, очень сложная, долгая и трудная. Только кажется, что раз я ясно вижу образ, то могу сразу его выразить. Когда начинаешь это делать, понимаешь, что получается совсем не то. И дальше ты, собственно, пытаешься понять, в чем дело, потому что образ у меня остается очень неподвижный, не меняется.
– Настойчиво ждет, пока будет воплощен?
– Может быть, это тоже связано именно с образом
нашей с Олегом жизни, поскольку часто приходилось прерывать работу, скажем,
на полгода, и потом к ней возвращаться. Надо было, чтобы все
оставалось в сознании неизменно. И, видимо, мы к этому привыкли,
выработали способ удерживать все в голове. Во всяком случае, у меня
это происходит так. Обычно я делаю очень много подготовительных
– За сколько у вас получается быстро написать картину?
– Трудно сказать. Иногда бывает, что даже за месяц мне удается большую картину закончить.
– А медленно?
– Последнюю картину я писал больше года.
А перед этим рисовал еще очень долго. Это был тяжелый процесс. Надо
сказать, что постепенно времени требуется все больше. Когда я только
появился в Европе, Каспер Кениг, довольно известная фигура
в Германии, устроил мою выставку во Франкфурте и пригласил
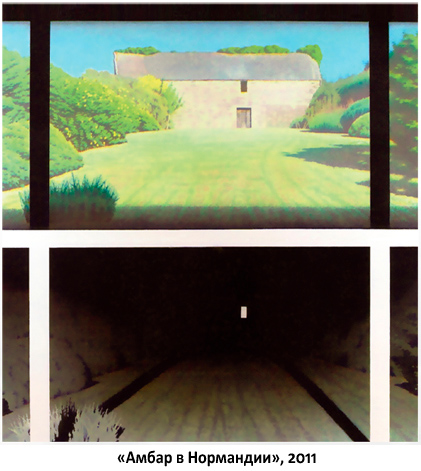
– Для чего нужно больше картин?
– Ты должен непрерывно функционировать, чтобы всюду возникало твое имя, и чтобы его не забывали. Там принято считать, что так надо.
– Среди других видов искусства, таких как поэзия, театр, чем вы интересуетесь?
– Безусловно, поэзией и музыкой. Я всю жизнь
работаю под музыку: я к ней привык, она мне необходма. И поэзия,
безусловно.
– Современная русская поэзия?
– Мой любимый поэт Всеволод Некрасов, вы, наверное, знаете, я очень много работал с его словами. Для меня это любимый поэт, еще Мандельштам, конечно, и Блок.
– А под какую музыку вы работаете?
– Шостакович, Малер, Бах.
– Во Франции, в Париже много живет русских художников?
– Да.
– Вы общаетесь между собой?
– В общем, общаемся немного.
– Но вы ведь ни в какие группы особо не входили, всегда были в стороне.
– Собственно, моя группа, наверно, и не группа была, а просто общение – это Олег Васильев прежде всего и Илья Кабаков. Мы втроем были очень близко связаны в пятидесятые, шестидесятые и семидесятые. В восьмидесятые мы с Ильей уже разошлись, а с Олегом были всю жизнь, конечно. И поэт Некрасов тоже мне близок — нас связывало очень большое единство в понимании искусства, в отношении к нему.
– Наверное, чем дальше, тем сложнее находить единомышленников?
– Практически невозможно.
– Какой лучший город на Земле?
– Лучший город – я думаю, что Флоренция.
– А Москва?
– Москва – это мой город. Поэтому, что тут можно сказать? Себя можно тоже не любить, и даже ненавидеть, но ведь от себя никуда не уйдешь. Москва – мой город и все.
– Сложно было переезжать и менять обстановку?
– Вы знаете, сначала, конечно, было сложно, ведь
в сущности,
– Там ведь много русских?
– Надо сказать, что парижская эмигрантская среда оказалась абсолютно чужой. Когда я туда приехал, меня приняли совершенно как врага. Для меня это было неожиданно. Такое ощущение, что они там все это время хранили русскую культуру, а я приехал им мешать.
– И сразу сделали выставку в центре Помпиду.
– Да, я же стал первым русским художником,
который сделал выставку в Помпиду — как это так? Удивительная
была реакция, я поразился просто. В Париже есть газета «Русская
мысль», и мне казалось, что об этой выставке в ней обязательно
должно
– Вы следите за тем, куда уходят ваши картины? Кто их покупает, в каких музеях и коллекциях они находятся?
– В общем, да. Но мы же не сами продаем, продает галерея. У них, конечно, есть вся эта документация.
– Это Германия, Швейцария, Голландия, в общем, примерно здесь.
– Что касается галерей в целом: разве
это правильно, что искусство делают галеристы, коллекционеры, кураторы,
а не художники
– Нет, это совершенно неправильно. Я считаю, что это просто болезнь современного искусства. Эти критики и кураторы, которые на самом деле должны были быть посредниками между зрителями и художниками, присваивают себе должность начальника над искусством. А художник – материал, с которым они работают. Конечно, это чудовищно. Тем более что они еще и прогнозируют, каким будет искусство. Но оно никогда не будет таким, каким они его видят. То, что сегодня кажется в искусстве перспективным никогда не будет таким завтра. И прогнозировать тут нечего, это глупое дело.